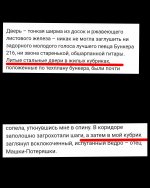Внимание! Данный контент не предназначен для лиц младше 18 лет, и включает в себя: жестокость, насилие, нецензурную лексику, и прочее. Если вы не достигли совершеннолетия, пожалуйста, покиньте тему. В противном случае, вы читаете на собственный страх и риск.
Запись первая. Меня зовут Ворон.
Настоящее время, Бункер 216.
– ...перемен! – под перезвон гитарных струн, доносился из соседнего "кубрика" звонкий голос Серого, – Требуют наши сердца-а-а!
"Кубрики", жилые бетонные кубы шесть на шесть метров, еще давным-давно были разделены самодельными перегородками на отсеки. Эти перегородки делало еще первое поколение "бункарей": раньше, когда народу в убежище было больше, люди пытались таким нехитрым способом получить хоть немного личного пространства.
"Тогда людей в бункере было битком. Не то, что сейчас, по одному на куб..." – мелькнула в голове неуютная мысль.
Док как-то рассказывал, что раньше была такая психическая болезнь, "клаустрофобия" – это когда люди боятся замкнутых, ограниченных пространств. Нам, нынешним бункарям, это кажется дикостью. Ну, как можно бояться надежных бетонных стен, отделяющих нас от враждебной поверхности? Пусть бункер и не задумывался комфортабельным жильем, но все эти десятки лет, прошедших с Катастрофы, он все так же исправно выполнял свою главную задачу: защищать тех, кто внутри.
Зато последующие поколения обитателей Бункера Север-216, годами не выходивших на поверхность, на собственной шкуре познали другую напасть: агорафобию. Панический страх открытых пространств был настоящим бичом первых бункарей-выходцев, когда жители убежища стали предпринимать свои робкие попытки выйти наружу.
Практически каждый житель бункера, впервые выбираясь на поверхность, испуганно шарахался назад – обратно под родные, надежные стены из бетона и стали. Я помню, как шестилетнего меня отец в самый первый раз вывел наружу. Вцепившись обеими ручонками в его широкую, мозолистую ладонь, я во все глаза глазел на открывшиеся мне просторы. Глядел – и никак не мог наглядеться...
...Поверхность тогда поприветствовала меня бескрайней синью неба, чуть припорошенного дымкой серых облаков. Небесный потолок начинался где-то вдалеке, у сухой, выжженной земли – и терялся вдали, простираясь насколько хватало глаз. Ослепляющая яркость Солнца зло жгла мои подслеповатые детские глаза, привыкшие к полумраку бункера и тусклому свету ламп. У меня никак не получалось поверить, что здесь, снаружи, нет никакого бетонного потолка над головой, и никаких холодных стен, за которыми можно укрыться, спрятаться от этого огромного, пугающего мира.
Здесь, снаружи, не было никакого убежища.
Помню, как испуганно шарахнулся за спину отца, порываясь спрятаться от неизведанной, пугающей поверхности – туда, обратно, под холодные и пахнущие сыростью, но такие надежные и родные стены убежища.
Но Патрон удержал меня за руку.
– Смотри, сынок! – негромко сказал он, – Когда-то все, что ты видишь перед собой, было нашим. Раньше мы не боялись этих бескрайних просторов!
– Да, когда-то все это было нашим... – чуть тише, добавил отец, и тихо, но твердо, заявил, – И еще будет. Мы все вернем. Слышишь? Мы! Все! Вернем!
– Пе-ре-мен!!! – заливался Серый в соседней комнате, – Требуют наши гла-за!
Дверь – тонкая ширма из досок и ржавеющего листового железа – никак не могла заглушить ни задорного молодого голоса лучшего певца Бункера 216, ни звона старенькой, обшарпанной гитары. Литые стальные двери в жилых кубриках, положенные по техплану бункера, были почти повсеместно демонтированы после одного давнего инцидента с Полковником.
"Перемен...", – задумался я, – "А ведь действительно. Что-то нужно менять. Дальше так нельзя"
Если начистоту, то... Я всегда завидовал таланту Серого. В его умелых руках старая гитара, видавшая не одно поколение бункарей, словно оживала, обретая душу. Серый умел полностью отдаваться песне, выкладываясь до дна: и старушка-гитара, будто не желая отставать, выдавала все, что могла. Серому не мешало даже то, что когда-то бывшая шестиструнной, гитара сохранила только две настоящие струны – а остальные были уже нехитрыми заменами: медная проволока, стальная нить, и последняя – обычная толстая леска.
Я бы хотел уметь петь и играть так, как Серега. Не в последнюю очередь потому, что нашему музыканту и певцу особенно приветливо улыбалась Аня-Ромашка, первая – и последняя – красавица Бункера 216. Но увы, с таким талантом нужно родиться.
С женщинами в бункере было... напряженно. Убежище когда-то насчитывало почти тысячу обитателей. Сейчас – нас меньше сотни. Особенно много людей мы потеряли тридцать лет назад, во время Первого Контакта – когда бункари впервые вышли на поверхность. Покинутая людьми земля встретила своих бывших жителей неласково: радиация, аномалии, мутанты, озверевшие мародеры...
Тридцать лет назад наружу из бункера вышли три сотни вооруженных и подготовленных бойцов. Казалось, они были готовы ко всему, что уготовила им покинутая земля... но – так только казалось.
Из трехсот человек, отправленных на разведку, назад вернулись только восемь.
Остальные – сгинули на беспощадных и недружелюбных территориях Пустошей. Кого-то сожрали мутанты, кто-то сгинул в причудливых аномалиях, кто – просто попал в засаду мародеров-падальщиков. Пускай у мародеров не было снаряжения и оружия, как у нас, но зато – они были исконными обитателями Пустошей, их коренными жителями.
А мы... мы были здесь всего лишь гостями.
Мы были не готовы убивать и выживать. А падальщики – делали это годами. У них не было – как было у нас – надежных стен убежища, чистой воды и незараженной еды. Среди падальщиков выживали только сильнейшие: рвавшие конкурентов зубами, привыкшие убивать просто за косой взгляд... или, чтобы поесть.
И не всегда едой было то, что отняли у убитого. Иногда – едой становился сам убитый.
Теми тремя сотнями бойцов командовал тогдашний командир боевого крыла бункера, Полковник. Он был одним из тех восьмерых, кто вернулся с Пустошей. На следующий же день после возвращения, Полковник закрылся в своем кубрике – и застрелился. Когда дверь в его куб сумели-таки взломать, он так и сидел на стуле: с развороченным пулей затылком, на столе – рапорт, придавленный сверху пустой бутылкой из-под самогона. И – еще не высохшие слезы на небритых щеках...
Из его по-военному короткого рапорта-отчета о вылазке, стало понятно: Полковник просто не выдержал того, что видел в Пустошах. Его отряд попал в засаду, и из двадцати бойцов, которые были с ним, короткую, но ожесточенную стычку с падальщиками пережили только трое. Сам Полковник чудом сумел сбежать из плена.
Падальщики, обрадованные захваченным снаряжением, разделали подчиненных Полковника прямо на его глазах. Несмотря на то, что в выданных тем парням рюкзаках были сухпайки и консервы, рейдеры их не тронули: продукты длительного хранения в Пустошах на вес жизни. А у падальщиков была другая, скоропортящаяся еда...
Сухие строчки рапорта сообщали, что "бойцы были еще живы, когда их рубили на куски топорами, а затем и зажаривали на кострах".
В дальнейшем, этих падальщиков бункари зачищали с особой тщательностью. Мой отец, Патрон, участвовал в той "зачистке", когда ему было примерно столько же лет, сколько и мне сейчас. Он не любил об этом вспоминать. Но мне хватило всего одной его фразы, чтобы, повзрослев, все понять:
"Пленных не было"
– Перемен! Мы ждем перемен! – надрывался в соседнем кубрике Серый, под звон гитарных струн.
Скрипнула дверца-ширма, открываясь. В дверном проеме, перекрыв тусклый, красноватый свет ламп-авариек в коридоре, появилась белобрысая, взлохмаченная голова Машки-Потеряшки.
– Дядя Ворон, ты еще не спишь? – сверкнув своими голубыми глазищами на пол-лица, деловито осведомилась семилетняя девчушка: любимица бункарей, и последний ребенок нашего поколения.
Нас с каждым годом остается все меньше. Соотношение мужчин к женщинам – почти десять к одной. На прошлом общем собрании бункарей, Профессор ляпнул было про то, что "в целях поддержания численности населения, следует ввести обязательные наряды-посещения оставшихся женщин, способных к зачатию". За подобное предложение ему чуть не расцарапали лицо. А Ведро и вовсе пообещал дать Профессору в глаз за такие слова. Щуплый и говорливый радиотехник под забавным прозвищем Ведро, был счастливым отцом двух детей: Машки-Потеряшки и Данилки-Шурупчика. А также – был единственным "женатиком" из всех бункарей.
Никто уже не помнит, когда появилась традиция вместо имен брать клички – прозвища, которые коротко и емко говорили о человеке. Но мы уже привыкли звать друг друга не по именам, а по прозвищам.
– Дядь Ворон? – нетерпеливо повторила Машка-Потеряшка, стоя в дверях.
– Не сплю, Потеряшка, – лениво откликнулся я, даже не предпринимая попыток встать со своей двухъярусной койки, – Чего тебе, малая?
Непоседа в одежде-повседневке – таком же застиранном комбезе из линялой синей брезентухи, как и у всех бункарей – уже влетела в мой кубрик, на ходу тараторя:
– Можно я с тобой полежу? Можно же, да? – и добавила обиженно, уже запрыгивая на мою койку и толкая меня, – Подвинься, дядь Ворон!
Пришлось двигаться, а что делать?
– И чего тебе у себя не спится? – негромко буркнул я, сдвигаясь к краю, и позволяя мелкой перелезть через меня, и заворошиться у меня за спиной, устраиваясь поудобнее.
– Да я просто... – девочка шмыгнула носом, – Снова, ну... плохие сны.
Я только и вздохнул:
– Фиг с тобой, – и шутливо пригрозил, – Но, если вдруг вздумаешь храпеть...
– И вовсе я не храплю! – возмутилась Потеряшка, тыкая острым кулачком мне под ребра, – Врешь ты все!
– Ладно-ладно, – проворчал я, – Не храпишь. Пошутил я, ай! Хватит меня бить!
За спиной затихли. Ненадолго, всего на пару минут:
– Дядь Ворон... – тихо проговорила малая, – А если я опять потеряюсь... ты придешь?
– Не, не приду, – лениво откликнулся я.
– Почему это?! – негодующе зашебуршилась Потеряшка, и обвиняюще заявила, – А я еще за тебя замуж собиралась!
– Не приду, – продолжил я с усмешкой, – Прилечу. На крыльях. Я же Ворон...
– А, ну тогда ла-а-адно... – сонно зевнули за спиной, и милостливо разрешили, – Прилетай...
Помолчал немного.
– И вообще, – хмыкнул я, прерывая молчание, – Подрасти сначала, прежде чем о замужестве думать... Слышишь? Потеряшка?
Я повернул к ней голову, но девочка уже сонно сопела, уткнувшись мне в спину. В коридоре заполошно загрохотали шаги, а затем в мой кубрик заглянул всклокоченный, испуганный Ведро – отец Машки-Потеряшки.
– А, у тебя она, Ворон... – облегченно выдохнул техник, – А я уж думал, снова пропала...
– Ага, – вздохнул я, – Опять пришла у меня спать, чудо морское...
– Ну, тогда пусть спит, – улыбнулся Ведро, а затем его улыбка поблекла, и он замявшись, и опустив голову, неловко поблагодарил меня, – Спасибо, Ворон. За тогда... и вообще, спасибо тебе.
Я тяжело вздохнул:
– Не за что. Любой бы из наших так поступил. Это же дети...
– Ну, тогда ее нашел не любой, а именно ты! – убежденно возразил отец девочки, – Мне тебя вовек не отблагодарить!
"Не меня надо благодарить. Суслик ее первым увидел", – тоскливо подумал я, но ничего не сказал.
Вместо этого, я прикрыл глаза в ответ на его слова, и притворился, что уже сплю. Послушал сквозь закрытые веки, как Ведро помялся на входе, а затем вышел из моего кубрика.
Дождавшись, пока он уйдет, я открыл глаза. Взгляд, как всегда, зацепился за корявую надпись на стене, процарапанную ножом на облупившейся краске:
"СУСЛЕК И ВОРАН ДРУЗЯ НАВСИГДА!"
Я отвел глаза. Этой надписи уже больше десяти лет: хулиганистый Сусл, сперев отцовский нож, накарябал эти буквы, когда мы оба были совсем еще зелеными. Сердце остро кольнуло – как и всегда, когда я видел эту надпись. Это все, что осталось на память от Суслика, моего верного приятеля и побратима...
Наше с ним знакомство сперва не задалось: Суслик был задиристым "пустынником", а я – чистюлей-бункарем... Мне тогда отец как раз показал пару приемчиков, и руки чесались их применить на практике. Когда развед-группа притащила в бункер тощего и голодного двенадцатилетнего мальчишку в драных обносках, обнаруженного на границе наших земель, я не сдержался.
Фыркнул, презрительно глядя на вонючее тряпье, которое чудом не спадало с мосластого оборвыша. Оборвыш тут же отреагировал:
– Че ты фыркаешь? – вызверился пацан.
И, оглядев меня с головы до ног, веско добавил:
– Ворона драная.
Оскорбление попало в точку: мои непослушные черные волосы никак не поддавались расческе, и всегда были растрепаны, словно воронье гнездо.
– А ты, а ты! – я подшагнул к оборвышу, выискивая, за что зацепиться.
Взгляд прикипел к крупным передним зубам пацана, торчавшим, словно резцы у грызунов.
"Суслик", – мелькнуло в голове слово, прочитанное в книжке с картинками, по которой бункарей учили читать, – "Точно, суслик!"
– А ты суслик! – злорадно озвучил вслух.
Слово за слово, толчок в грудь – и вот мы с оборвышем, сцепившись, покатились по бетонному полу, визжа и пинаясь. Оказалось, что в такой собачьей свалке все приемы начисто забываются. И, как выяснилось, у пришлого опыт в драках был. Так что, он начал брать верх. К счастью, удалось вспомнить то, что показывал отец, и применить болевой прием.
– А ну, прекратили! – рявкнул отец, разнимая нас.
Мы с оборвышем, расцепившись, отскочили друг от друга. Замерли, тяжело дыша и не спуская глаз с противника.
Вокруг хохотали мужики:
– Гляди, Патрон, ну точно волчата!
– Вот и познакомились!
Отец покачал головой:
– Хорош уже, – он повернулся к командиру боевого крыла, – Бедуин, я пришлого беру под опеку.
Затем Патрон добавил, обращаясь уже к нам:
– Миритесь. Руки друг другу пожмите. И привыкайте, вам вместе жить.
Мириться не хотелось, но под пристальным взглядом отца, пришлось.
– А ты ничего, – буркнул я, неохотно пожимая костлявую ладонь пришлого оборвыша, – Неплохо дерешься.
– Ты тоже нормально машешься, – шмыгнул разбитым носом мальчишка, – Как звать?
"Превращай слабость в достоинство!", – вспомнил я слова отца.
Пожав плечами, сплюнул кровь из разбитой губы, и произнес:
– А, пофиг. Зови Вороном.
Мальчишка задорно улыбнулся:
– Хех. А ты меня тогда зови Сусликом...
Я чутко прислушался к звукам из коридора: нет, Ведро ушел, не слышно его характерных, торопливых шагов. Да и гитара Серого затихла – поздно уже. Неловко мне всегда, когда Ведро меня благодарит за спасение Потеряшки. И – хоть я это никому и не говорил – мне неприятно вспоминать тот день: день, когда я потерял друга.
Но не только поэтому.
Именно в тот день, месяц назад, я и обнаружил в себе темную сторону: жестокую, злую... и безжалостную. А еще – не одной Потеряшке снятся кошмары. Мне тоже временами снится тот бой с падальщиками. Особенно часто снится смерть Сусла...
Но, пожалуй, мой самый страшный сон – что я тогда не успел ее спасти.
Запись первая. Меня зовут Ворон.
Настоящее время, Бункер 216.
– ...перемен! – под перезвон гитарных струн, доносился из соседнего "кубрика" звонкий голос Серого, – Требуют наши сердца-а-а!
"Кубрики", жилые бетонные кубы шесть на шесть метров, еще давным-давно были разделены самодельными перегородками на отсеки. Эти перегородки делало еще первое поколение "бункарей": раньше, когда народу в убежище было больше, люди пытались таким нехитрым способом получить хоть немного личного пространства.
"Тогда людей в бункере было битком. Не то, что сейчас, по одному на куб..." – мелькнула в голове неуютная мысль.
Док как-то рассказывал, что раньше была такая психическая болезнь, "клаустрофобия" – это когда люди боятся замкнутых, ограниченных пространств. Нам, нынешним бункарям, это кажется дикостью. Ну, как можно бояться надежных бетонных стен, отделяющих нас от враждебной поверхности? Пусть бункер и не задумывался комфортабельным жильем, но все эти десятки лет, прошедших с Катастрофы, он все так же исправно выполнял свою главную задачу: защищать тех, кто внутри.
Зато последующие поколения обитателей Бункера Север-216, годами не выходивших на поверхность, на собственной шкуре познали другую напасть: агорафобию. Панический страх открытых пространств был настоящим бичом первых бункарей-выходцев, когда жители убежища стали предпринимать свои робкие попытки выйти наружу.
Практически каждый житель бункера, впервые выбираясь на поверхность, испуганно шарахался назад – обратно под родные, надежные стены из бетона и стали. Я помню, как шестилетнего меня отец в самый первый раз вывел наружу. Вцепившись обеими ручонками в его широкую, мозолистую ладонь, я во все глаза глазел на открывшиеся мне просторы. Глядел – и никак не мог наглядеться...
...Поверхность тогда поприветствовала меня бескрайней синью неба, чуть припорошенного дымкой серых облаков. Небесный потолок начинался где-то вдалеке, у сухой, выжженной земли – и терялся вдали, простираясь насколько хватало глаз. Ослепляющая яркость Солнца зло жгла мои подслеповатые детские глаза, привыкшие к полумраку бункера и тусклому свету ламп. У меня никак не получалось поверить, что здесь, снаружи, нет никакого бетонного потолка над головой, и никаких холодных стен, за которыми можно укрыться, спрятаться от этого огромного, пугающего мира.
Здесь, снаружи, не было никакого убежища.
Помню, как испуганно шарахнулся за спину отца, порываясь спрятаться от неизведанной, пугающей поверхности – туда, обратно, под холодные и пахнущие сыростью, но такие надежные и родные стены убежища.
Но Патрон удержал меня за руку.
– Смотри, сынок! – негромко сказал он, – Когда-то все, что ты видишь перед собой, было нашим. Раньше мы не боялись этих бескрайних просторов!
– Да, когда-то все это было нашим... – чуть тише, добавил отец, и тихо, но твердо, заявил, – И еще будет. Мы все вернем. Слышишь? Мы! Все! Вернем!
– Пе-ре-мен!!! – заливался Серый в соседней комнате, – Требуют наши гла-за!
Дверь – тонкая ширма из досок и ржавеющего листового железа – никак не могла заглушить ни задорного молодого голоса лучшего певца Бункера 216, ни звона старенькой, обшарпанной гитары. Литые стальные двери в жилых кубриках, положенные по техплану бункера, были почти повсеместно демонтированы после одного давнего инцидента с Полковником.
"Перемен...", – задумался я, – "А ведь действительно. Что-то нужно менять. Дальше так нельзя"
Если начистоту, то... Я всегда завидовал таланту Серого. В его умелых руках старая гитара, видавшая не одно поколение бункарей, словно оживала, обретая душу. Серый умел полностью отдаваться песне, выкладываясь до дна: и старушка-гитара, будто не желая отставать, выдавала все, что могла. Серому не мешало даже то, что когда-то бывшая шестиструнной, гитара сохранила только две настоящие струны – а остальные были уже нехитрыми заменами: медная проволока, стальная нить, и последняя – обычная толстая леска.
Я бы хотел уметь петь и играть так, как Серега. Не в последнюю очередь потому, что нашему музыканту и певцу особенно приветливо улыбалась Аня-Ромашка, первая – и последняя – красавица Бункера 216. Но увы, с таким талантом нужно родиться.
С женщинами в бункере было... напряженно. Убежище когда-то насчитывало почти тысячу обитателей. Сейчас – нас меньше сотни. Особенно много людей мы потеряли тридцать лет назад, во время Первого Контакта – когда бункари впервые вышли на поверхность. Покинутая людьми земля встретила своих бывших жителей неласково: радиация, аномалии, мутанты, озверевшие мародеры...
Тридцать лет назад наружу из бункера вышли три сотни вооруженных и подготовленных бойцов. Казалось, они были готовы ко всему, что уготовила им покинутая земля... но – так только казалось.
Из трехсот человек, отправленных на разведку, назад вернулись только восемь.
Остальные – сгинули на беспощадных и недружелюбных территориях Пустошей. Кого-то сожрали мутанты, кто-то сгинул в причудливых аномалиях, кто – просто попал в засаду мародеров-падальщиков. Пускай у мародеров не было снаряжения и оружия, как у нас, но зато – они были исконными обитателями Пустошей, их коренными жителями.
А мы... мы были здесь всего лишь гостями.
Мы были не готовы убивать и выживать. А падальщики – делали это годами. У них не было – как было у нас – надежных стен убежища, чистой воды и незараженной еды. Среди падальщиков выживали только сильнейшие: рвавшие конкурентов зубами, привыкшие убивать просто за косой взгляд... или, чтобы поесть.
И не всегда едой было то, что отняли у убитого. Иногда – едой становился сам убитый.
Теми тремя сотнями бойцов командовал тогдашний командир боевого крыла бункера, Полковник. Он был одним из тех восьмерых, кто вернулся с Пустошей. На следующий же день после возвращения, Полковник закрылся в своем кубрике – и застрелился. Когда дверь в его куб сумели-таки взломать, он так и сидел на стуле: с развороченным пулей затылком, на столе – рапорт, придавленный сверху пустой бутылкой из-под самогона. И – еще не высохшие слезы на небритых щеках...
Из его по-военному короткого рапорта-отчета о вылазке, стало понятно: Полковник просто не выдержал того, что видел в Пустошах. Его отряд попал в засаду, и из двадцати бойцов, которые были с ним, короткую, но ожесточенную стычку с падальщиками пережили только трое. Сам Полковник чудом сумел сбежать из плена.
Падальщики, обрадованные захваченным снаряжением, разделали подчиненных Полковника прямо на его глазах. Несмотря на то, что в выданных тем парням рюкзаках были сухпайки и консервы, рейдеры их не тронули: продукты длительного хранения в Пустошах на вес жизни. А у падальщиков была другая, скоропортящаяся еда...
Сухие строчки рапорта сообщали, что "бойцы были еще живы, когда их рубили на куски топорами, а затем и зажаривали на кострах".
В дальнейшем, этих падальщиков бункари зачищали с особой тщательностью. Мой отец, Патрон, участвовал в той "зачистке", когда ему было примерно столько же лет, сколько и мне сейчас. Он не любил об этом вспоминать. Но мне хватило всего одной его фразы, чтобы, повзрослев, все понять:
"Пленных не было"
– Перемен! Мы ждем перемен! – надрывался в соседнем кубрике Серый, под звон гитарных струн.
Скрипнула дверца-ширма, открываясь. В дверном проеме, перекрыв тусклый, красноватый свет ламп-авариек в коридоре, появилась белобрысая, взлохмаченная голова Машки-Потеряшки.
– Дядя Ворон, ты еще не спишь? – сверкнув своими голубыми глазищами на пол-лица, деловито осведомилась семилетняя девчушка: любимица бункарей, и последний ребенок нашего поколения.
Нас с каждым годом остается все меньше. Соотношение мужчин к женщинам – почти десять к одной. На прошлом общем собрании бункарей, Профессор ляпнул было про то, что "в целях поддержания численности населения, следует ввести обязательные наряды-посещения оставшихся женщин, способных к зачатию". За подобное предложение ему чуть не расцарапали лицо. А Ведро и вовсе пообещал дать Профессору в глаз за такие слова. Щуплый и говорливый радиотехник под забавным прозвищем Ведро, был счастливым отцом двух детей: Машки-Потеряшки и Данилки-Шурупчика. А также – был единственным "женатиком" из всех бункарей.
Никто уже не помнит, когда появилась традиция вместо имен брать клички – прозвища, которые коротко и емко говорили о человеке. Но мы уже привыкли звать друг друга не по именам, а по прозвищам.
– Дядь Ворон? – нетерпеливо повторила Машка-Потеряшка, стоя в дверях.
– Не сплю, Потеряшка, – лениво откликнулся я, даже не предпринимая попыток встать со своей двухъярусной койки, – Чего тебе, малая?
Непоседа в одежде-повседневке – таком же застиранном комбезе из линялой синей брезентухи, как и у всех бункарей – уже влетела в мой кубрик, на ходу тараторя:
– Можно я с тобой полежу? Можно же, да? – и добавила обиженно, уже запрыгивая на мою койку и толкая меня, – Подвинься, дядь Ворон!
Пришлось двигаться, а что делать?
– И чего тебе у себя не спится? – негромко буркнул я, сдвигаясь к краю, и позволяя мелкой перелезть через меня, и заворошиться у меня за спиной, устраиваясь поудобнее.
– Да я просто... – девочка шмыгнула носом, – Снова, ну... плохие сны.
Я только и вздохнул:
– Фиг с тобой, – и шутливо пригрозил, – Но, если вдруг вздумаешь храпеть...
– И вовсе я не храплю! – возмутилась Потеряшка, тыкая острым кулачком мне под ребра, – Врешь ты все!
– Ладно-ладно, – проворчал я, – Не храпишь. Пошутил я, ай! Хватит меня бить!
За спиной затихли. Ненадолго, всего на пару минут:
– Дядь Ворон... – тихо проговорила малая, – А если я опять потеряюсь... ты придешь?
– Не, не приду, – лениво откликнулся я.
– Почему это?! – негодующе зашебуршилась Потеряшка, и обвиняюще заявила, – А я еще за тебя замуж собиралась!
– Не приду, – продолжил я с усмешкой, – Прилечу. На крыльях. Я же Ворон...
– А, ну тогда ла-а-адно... – сонно зевнули за спиной, и милостливо разрешили, – Прилетай...
Помолчал немного.
– И вообще, – хмыкнул я, прерывая молчание, – Подрасти сначала, прежде чем о замужестве думать... Слышишь? Потеряшка?
Я повернул к ней голову, но девочка уже сонно сопела, уткнувшись мне в спину. В коридоре заполошно загрохотали шаги, а затем в мой кубрик заглянул всклокоченный, испуганный Ведро – отец Машки-Потеряшки.
– А, у тебя она, Ворон... – облегченно выдохнул техник, – А я уж думал, снова пропала...
– Ага, – вздохнул я, – Опять пришла у меня спать, чудо морское...
– Ну, тогда пусть спит, – улыбнулся Ведро, а затем его улыбка поблекла, и он замявшись, и опустив голову, неловко поблагодарил меня, – Спасибо, Ворон. За тогда... и вообще, спасибо тебе.
Я тяжело вздохнул:
– Не за что. Любой бы из наших так поступил. Это же дети...
– Ну, тогда ее нашел не любой, а именно ты! – убежденно возразил отец девочки, – Мне тебя вовек не отблагодарить!
"Не меня надо благодарить. Суслик ее первым увидел", – тоскливо подумал я, но ничего не сказал.
Вместо этого, я прикрыл глаза в ответ на его слова, и притворился, что уже сплю. Послушал сквозь закрытые веки, как Ведро помялся на входе, а затем вышел из моего кубрика.
Дождавшись, пока он уйдет, я открыл глаза. Взгляд, как всегда, зацепился за корявую надпись на стене, процарапанную ножом на облупившейся краске:
"СУСЛЕК И ВОРАН ДРУЗЯ НАВСИГДА!"
Я отвел глаза. Этой надписи уже больше десяти лет: хулиганистый Сусл, сперев отцовский нож, накарябал эти буквы, когда мы оба были совсем еще зелеными. Сердце остро кольнуло – как и всегда, когда я видел эту надпись. Это все, что осталось на память от Суслика, моего верного приятеля и побратима...
Наше с ним знакомство сперва не задалось: Суслик был задиристым "пустынником", а я – чистюлей-бункарем... Мне тогда отец как раз показал пару приемчиков, и руки чесались их применить на практике. Когда развед-группа притащила в бункер тощего и голодного двенадцатилетнего мальчишку в драных обносках, обнаруженного на границе наших земель, я не сдержался.
Фыркнул, презрительно глядя на вонючее тряпье, которое чудом не спадало с мосластого оборвыша. Оборвыш тут же отреагировал:
– Че ты фыркаешь? – вызверился пацан.
И, оглядев меня с головы до ног, веско добавил:
– Ворона драная.
Оскорбление попало в точку: мои непослушные черные волосы никак не поддавались расческе, и всегда были растрепаны, словно воронье гнездо.
– А ты, а ты! – я подшагнул к оборвышу, выискивая, за что зацепиться.
Взгляд прикипел к крупным передним зубам пацана, торчавшим, словно резцы у грызунов.
"Суслик", – мелькнуло в голове слово, прочитанное в книжке с картинками, по которой бункарей учили читать, – "Точно, суслик!"
– А ты суслик! – злорадно озвучил вслух.
Слово за слово, толчок в грудь – и вот мы с оборвышем, сцепившись, покатились по бетонному полу, визжа и пинаясь. Оказалось, что в такой собачьей свалке все приемы начисто забываются. И, как выяснилось, у пришлого опыт в драках был. Так что, он начал брать верх. К счастью, удалось вспомнить то, что показывал отец, и применить болевой прием.
– А ну, прекратили! – рявкнул отец, разнимая нас.
Мы с оборвышем, расцепившись, отскочили друг от друга. Замерли, тяжело дыша и не спуская глаз с противника.
Вокруг хохотали мужики:
– Гляди, Патрон, ну точно волчата!
– Вот и познакомились!
Отец покачал головой:
– Хорош уже, – он повернулся к командиру боевого крыла, – Бедуин, я пришлого беру под опеку.
Затем Патрон добавил, обращаясь уже к нам:
– Миритесь. Руки друг другу пожмите. И привыкайте, вам вместе жить.
Мириться не хотелось, но под пристальным взглядом отца, пришлось.
– А ты ничего, – буркнул я, неохотно пожимая костлявую ладонь пришлого оборвыша, – Неплохо дерешься.
– Ты тоже нормально машешься, – шмыгнул разбитым носом мальчишка, – Как звать?
"Превращай слабость в достоинство!", – вспомнил я слова отца.
Пожав плечами, сплюнул кровь из разбитой губы, и произнес:
– А, пофиг. Зови Вороном.
Мальчишка задорно улыбнулся:
– Хех. А ты меня тогда зови Сусликом...
Я чутко прислушался к звукам из коридора: нет, Ведро ушел, не слышно его характерных, торопливых шагов. Да и гитара Серого затихла – поздно уже. Неловко мне всегда, когда Ведро меня благодарит за спасение Потеряшки. И – хоть я это никому и не говорил – мне неприятно вспоминать тот день: день, когда я потерял друга.
Но не только поэтому.
Именно в тот день, месяц назад, я и обнаружил в себе темную сторону: жестокую, злую... и безжалостную. А еще – не одной Потеряшке снятся кошмары. Мне тоже временами снится тот бой с падальщиками. Особенно часто снится смерть Сусла...
Но, пожалуй, мой самый страшный сон – что я тогда не успел ее спасти.